Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]
Но и по сравнению с Вами я чувствую что-то такое и таким образом, что вряд ли найдет отклик в Вашей душе.
Давайте объясню точнее. Возьмем, для примера, нашу работу. Ну что она такое для Вас, Катя? Времяпрепровождение или страсть, способ добывания денег или принудительная скучная обязанность? Почему Вы делаете ошибки в расчетах, зачем без пятнадцати пять спешите к проходной и там в нетерпении отсчитываете последние минуты? Не знаю ответа.
А для меня работа — это жизнь, это все. Хотите знать, почему? Да потому, что я начал работать при других обстоятельствах, которые Вы, слава богу, не знаете и не узнаете никогда, разве только по книжкам.
Наша работа для меня не скучная, совсем нет. Цифры как птицы, белая бумага, длинные периоды — вижу, что за ними, какие громадные силы и планы! Люблю это. С трепетом ощущаю, как в сухие строчки наших отчетов умещается яркая, бурная переменчивая жизнь. Может быть, Вы насмешливо улыбнетесь, читая мои слова, подумаете: вот, мол, канцелярская душа! Как угодно. Но я такой, как есть, и другим уже не буду, не переменюсь, поздно. То, что люблю, уж и буду любить, а то, что ненавижу, так и буду ненавидеть до конца.
Могли бы Вы, Катя, выйти замуж за канцелярскую крысу, за чиновника? Могли бы полюбить такого?
Вы — человек из другого теста, Ваше сердце горит совсем иным огнем, и, наверное, мечтаете Вы о другом, о ярком.
Что могу дать я своей жене? Тихие вечера, проводимые вместе у телевизора, редкие походы в театр, путешествие к Черному морю, не слишком большую зарплату. Никаких взрывов, порой так очаровательно разнообразящих семейную жизнь, от меня не дождетесь.
Прогулки под руку, вкусный ужин (я хорошо готовлю), обсуждение свежего номера журнала — вот и все.
Надеюсь, что буду хорошим, добрым и внимательным отцом, потому что хочу иметь детей.
Катя, выходите за меня замуж! Вы будете свободны. Не понравится — уйдете. А почему бы не попробовать?
Напишите мне сюда. Хоть открытку.
Фоняков".
Письмо это я, разумеется, не отправил. Перечитав его, ужаснулся той смеси глупости, чванства, самодовольства и наглости, которые сумел уместить на двух небольших страничках.
— Вот это да, Степан, — сказал себе. — А ты, оказывается, полный болван!
А письмо порвал и клочки отнес в мусорное ведро.
Попозже, близко к полуночи, я вышел на крылечко покурить. Деревенская улица, похожая на просеку, была пуста и светла от луны. Все окна в избах погашены, и дома казались картонными. Все было призрачно, как на макете в старом кино.
Сзади скрипнула дверь, и показалась Амалия Ивановна в накинутом и наглухо запахнутом длинном черном пальто.
— Не спится, милок? — сказала она добрым голосом. — В городе-то, я чай, поздно ложатся?
— Когда как, Амалия Ивановна.
— Что же у тебя там — жена, детки?
— Нету никого, — ответил я.
— Померла, што ль? — посочувствовала женщина.
Ночная пора расположила ее к теме, которую прежде она деликатно обходила.
— Бобыль я, Амалия Ивановна.
Она торопливо и с охотой вздохнула.
— Так вези от нас бабу. У нас есть. Всякие есть: и красивые, хозяйственные. В городе, поди, всем молодых подавай, а у нас любой мужик хорош.
Она меня пожалела — что ж тут обидного!
9
На другой день Амалия Ивановна раза два забегала с фермы (обычно она возвращалась к вечеру) и оба раза как-то лукаво спрашивала, не надо ли мне чего. И тут я ничего не заподозрил. Вечером у себя в комнате читал, думал о Кате, хандрил. Какие-то неясные предчувствия пугали.
Постучала и вошла Амалия Ивановна.
— Прошу отужинать с нами, — сказала церемонно,
— С кем с вами? — удивился я.
— Так гости же у нас.
— А я зачем?
— Идемте, идемте, пожалуйста…
Чтобы не обидеть, надеясь, что, может, дед Антон заглянул, но все же поругивая Амалию Ивановну за ее уловки, вошел растерянный. За столом, накрытым к ужину, восседала женщина в плисовой юбке с красным, смущенным лицом. Я тоже сразу смутился.
Амалия Ивановна ткнула в женщину перстом, сказала со значением:
— Вот это, значит, Надюша Гордова. А это, значится, Степушка, Фоняковой Клавы сынок. — Подумала и назидательно припомнила: — Фоняковы с Гордовыми завсегда дружбу вели. Помнишь, Наденя, когда кутерьма с пшеничкой была, до войны ище, так, значится, Костьку фоняковского усадили, а заодно и Федьку Гордова из Бурмилова, конечно. Это уж все понимали — заодно.
— Что за история? — спросил я, заинтересованный больше не самим случаем, а тем, откуда у меня может быть столько родни, да еще с темным прошлым. В анкетах всегда писал: никто из родных под судом не был. Да и точно — не был.
— Старинное дело, — отмахнулась Амалия Ивановна. — К слову поминулось.
Надюша Гордова, как ее назвала хозяйка, сидела, в рот воды набрав. Но глазами, однако, постреливала. А глаза у нее были глубокие и с тенями. Что ж делать, стали мы ужинать. Амалия Ивановна из графинчика чего-то темного налила по рюмкам. Улыбалась она так, как улыбаются только застенчивые деревенские женщины в особо торжественных и значительных обстоятельствах, — с тонким намеком и одновременно какой-то строгой святостью.
Жидкость оказалась дьявольским самогоном. Его знобкий и яркий привкус сразу связался у меня с множеством неясных воспоминаний и дальних светлых надежд.
— Кушай, кушай, голубчик, — приговаривала Амалия Ивановна; сама не закусывала, а мне подкладывала и капустки квашеной с яблоком, и сальца с прожилками, дымящихся в кожуре картофелин.
Горела тусклая лампа, из открытого окна тянуло желтоватыми чудными запахами смолы, соломы и яблок. От ветерка колыхались оконные занавески, серый толстый кот мурлыкал, как трактор, разлегшись на табуретке, с лютой пронзительностью не сводя неподвижных зрачков с моих рук, — каждое мое движение он сопровождал взмахами острых кончиков-кисточек на ушах.
Плотная, с блистающими звездами, ночь за окном казалась прозрачней, чем свет в горнице, и это создавало странную иллюзию лубочности нашего сидения за белым столом.
Амалия Ивановна и Надюша выпили по второй стопке, а я отказался, чем вызвал немой вопрос на устах прелестной гостьи.
— Что же вы! — укорила Амалия Ивановна. — Чистый ведь продукт. В городе у вас, говорят, нынче во все нефть кладут. Даже сало вот, прости господи, из нефти гонят. Потому ты, Степа Аристархович, голубчик, и туманный такой, — стало быть, нефть тебя источает помаленьку.
— Это да, — согласился я.
У Надюши замечание почему-то вызвало приступ долгого, придушенного смеха — сначала она показала в широкой улыбке коренные железные коронки, а потом, давясь весельем, вся покрылась розовыми пятнами и, наконец, заиндевела, как бы прихваченная морозом. Пораженный такими метаморфозами, я неприлично уставился и глядел на нее в упор.
— Смешливая у нас Наденька, — тоже озадаченно заметила Амалия Ивановна. — А все смешливые добрые к мужикам.
— Как это добрые?
— Не ко всем, значится, а к мужу законному, — поправилась хозяйка. — Ты знай, Степан, злая жена, ведьма — беда. В петлю залезешь. А она из петли вынет и сызнова станет мучить. Вот сколько в злой жене зла! Не пожалеет, помереть не даст.
Амалия Ивановна чуть захмелела, и говорок у нее появился певучий и складный. Но Надюша по-прежнему была как немая. Тут я и не сплоховал, поухаживал:
— Вы бы, Наденька, обронили хоть словцо.
Она так жарко зыркнула глазами, что я озяб.
— Она еще скажет, — успокоила Амалия Ивановна, — еще наслушаешься. Лучше ты нам, Степан Фоняков, расскажи, как это в городе люди до твоих лет бобылями доживают. Ай не нашел себе под стать? Девок-то, поди, мильоны.
— Денег у меня мало, — ответил. — А без денег кто свяжется!
— Не в деньгах счастье, — бухнула вдруг Надюша басом и мила мне стала чрезвычайно.
"Вот и хороша жена, — подумал я твердо и убежденно. — С неба ангел".
Но неужели так может быть, что вот свели двух незнакомых людей с определенной целью, они познакомились, понравились друг другу и зажили припеваючи.
Тем временем обе женщины словно забыли обо мне, или, наоборот, я сделался им близким человеком, которому не обязательно оказывать ежеминутные знаки внимания.
Они стали петь. Лицо Надюши побледнело, горькая тень отчаяния набежала на него, красиво, низко она выводила: "Зачем вы, девочки…", Амалия Ивановна подтягивала тоненько и жалобно где-то в небесах — такой свирельный голосок достала она из незабытых девичьих тайников. Тогда и я запел, а женщины одобрительно и дружно покивали.
Мы долго пели в покое и радости.
Думаю вот о чем. Зачем иногда случаются такие сладкие и мучительные остановки? Зачем манит что-то неведомое и, может быть, гибельное? Что это значит? Куда зовут нас песни, спетые за случайным столом? Почему тревожат они, как будто прожил ты жизнь окаянную и неправильную? Во мне ли это только или во всех нас сидит до поры, покрывшись лопухом, бесстрашный черт, шепотом кричащий о счастливых безумствах и быстрых непоправимых мгновениях?
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/uploads/posts/books/122894/122894.jpg)
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/uploads/posts/books/133327/133327.jpg)
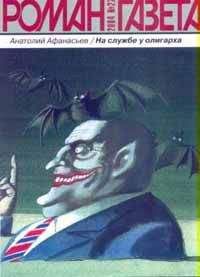
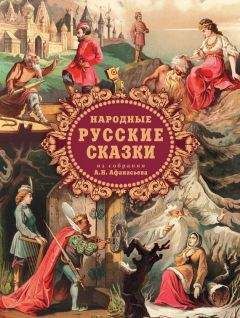
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/uploads/posts/books/237651/237651.jpg)